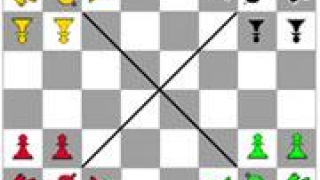Возродить Гераклита в III тысячелетии христианской эры
«… когда σκοτεινός характеризует человека, оно означает "таинственный, загадочный"…»
А. Лебедев, Логос Гераклита. Реконструкция мысли и слова
Открываются оракулы Гераклита свидетельством Секста, этого лекаря пиррониста, некогда препиравшегося с тенью Энесидема о своей школе, как о введении в учение Гераклита, да сетовавшего на неограниченное владычество эфесца над мраком и прочими «предметами тьмы». Ясновидения Гераклита причислялись завистливым Секстом к «догматизму»: «Загрей не держит меня за руку! Моя подслеповатость, неспособность сверхсофиста ясно различить древнего Бога — вот чего не терплю я рядом со сверх-Линкеем, Гераклитом!» Секст понимает Гераклита лишь вполовину, как Сократ лаэрцианы: сверхтелесность Гераклита, окрещённая Гегелем «загадочностью», не способна перетечь в Секста, — физиологическая дамба! Отсюда человеческий, слишком человеческий вопрос: стоит ли доверять этому противнику учёных, когда речь заходит о приблизительном цитировании им философа, превосходящего его проницательностью, а значит и талантом врачевателя? Посему проявим к Сексту чуток скептицизма!
Погружаясь одновременно и в Гераклита, и в Секста (а сверхфилолог непременно есть сверхактëр! — он втекает в любого антропоида, заполняет телесную форму, подключается к его мышцам, нервам, душе, — становится кем угодно: «Верю!» - воскликнет дух Станиславского), невозможно избавиться от ощущения, будто они пишут на разных языках, для разных читателей, хоть и пользуются греческим шрифтом. Оба в общем-то — соседи, от Лесбоса до Эфеса рукой подать, да только разделяет Гераклита с Секстом более половины тысячелетия, и если первый не замаран скверной эгалитаризма, то второй буквально пышет моралином. Рождённый александрийской культурой, выдрессированный в её сетях словно разжиревший от протеина лосось из питомника, Секст Эмпирик абсолютно не способен психически осмыслить, что иной, отличный от его, гераклитовский ἄνθρωπος вовсе не чета прочим. Табу! Для Секста — подлинное преступление заподозрить, что критерием истины являются не некие абстрактные «разум» или «чувствование», но — качественный уровень особи, задействующей их. Главенствующая проблема философии, паче всей мудрости Гераклита — добротность расы: «Ах, басилевс, вопросы крови - самые сложные вопросы в мире!» Да, важнейший вопрос любомудрствия: « А хорошо ли родился философ?»
Sext. adv. math. VII 132. (τοῦ δὲ) λόγου τοῦδ' ἐόντος (ἀεὶ) ἀξύνετοι γίγνονται ἄνθρωποι καὶ πρόσθεν ἤ ἀκοῦσαι καὶ ἀκούσαντες τὸ πρῶτον· γινοµένων γὰρ (πάντων) κατὰ τὸν λόγον τόνδε ἀπείροισιν ἐοίκασι, πειρώµενοι καὶ ἐπέων καὶ ἔργων τοιούτων, ὁκοίων ἐγὼ διηγεῦµαι διαιρέων ἕκαστον κατὰ φύσιν καὶ φράζων ὅκως ἔχει. τοὺς δὲ ἄλλους ἀνθρώπους λανθάνει ὁκόσα ἔγερθέντες ποιοῦσιν, ὅκωσπερ ὁκόσα εὕδοντες ἐπιλανθάνονται. «Ведь это — сон! Что ж, буду грезить дальше!» М-да, weiter träumen ... И это вовсе не посмертный кино-глаз Гамлета — невесть какая форма аполлонического рая для всех, кому противна человечность. Секст не демонстрирует Гераклита в своей супротив учёных написанной книге, словно некую предтечу Терезы Авильской, для которой, как и в последствие для её компатриотов Лопе де Вега с Кальдероном, la vida es необуддийский sueñо. Наиглавнейший цоколь цитируемого оракула — ἄνθρωποι! — психическое неравенство этого вида, подчас бездна, разделяющая души всех тех, кого нынче, с явной долей самонадеянной наивности, принято называть «людьми», полагаясь на двуногость этих ощипанных невежественными киниками петухов: «Es giebt eine Menge zwei- und vierbeiniger Wesen, die zu weiter nichts sind, als dazuseyn.» — откликается Шопенгауэр на агональный юмор болтливого Диогена (из хрии его тёзки) фразой, где ясно просматривается бόльшая толика слабости к <прочим> псам и другой четверолапой живности, нежели к фарисеям от «науки». На самом же деле Гераклит считает, что «человечество» направляется к Аиду стадом сомнамбул: Аполлон плотно укутал покрывалом Майи индивидуума, растворившегося в коллективе, и инстинктивно следующего к цели, столь же бездумно избранной многоголовым гоминидным монстром; каждая людская душа наглухо затянута в кокон, сквозь который не разглядеть проблесков Λόγος'а, — его существование неизвестно, а следовательно бесполезен и джихад ради уничтожения авидьи.
Упомяну и об эволюционном моменте, если и присутствовавшем в кастовой памяти Гераклита, но напрочь позабытом Гераклитом – эфесским брахманом: вновь возвращается Загрей-Якх-Дионис (величай создателя чувственного космоса как душе угодно, – ежели она у тебя имеется!) и грубо срывает покрывало Майи с элиты наичистейшей касты избранного им народа, – касты свято уверовавшей в вождя. Своё кредо данный этнос доказывает себе служением Богу таинством и деспотическим ритуалом (двумя формами этикета, навязанного Господом-консерватором, предпочитающим для обмена образами со жрецами древние, привычные ему языки и устоявшийся порядок) да ритмическим Словом со сцены, — этим ярко пульсирующим сквозь мрак ионийской ночи уникальным λόγος'ом своей расы (во французском смысле термина race). Молниеносно все Боги, мельком или подолгу видимые доселе в грёзах по милости Λοξίας'а, врываются в повседневность отмеченного вакхической субстанцией народа — шок от разнообразного контакта с сонмом Олимпийцев возвышает человеческий тип. Вот он микро-Big Bang людского развития! Мощь и реальная польза каждого из взрывов зависит от качества каждой из рас: столь неравны объём мозга, чувственность нервов, гормональная секреция (то, что демонолог вроде Ямвлиха назовëт «конфигурацией души с её перегородками»). И так всегда: всякая человеческая эволюция — неизменно плод преступления расиста Диониса! (да и животные тоже — ведь их дух не впитывается порами Зевса хтонического! — обязаны своим становлением Богу, только освобождающему их по-иному чем нас. Естественно). Соседние с трагической имплозией племена совершенствуются не прямым, вертикальным воздействием Вакха. Изолированные от Якха, они насыщаются демиургическим дифирамбом через общение с избранным народом, лишь на параллельном, человеческом уровне, корректируя своё восхождение как вид. Отсюда и как-же-иначная бешеная зависть бесповоротно отсталых этносов — и сект, объявивших себя «нацией»! — к людским группам, на которые, определивши их высшую телесность, положил глаз Господь. Отсюда и их тысячелетиями не ослабляемое остервенение отомстить первостепенным категориям человечества, лишив их преимущества, за которое их выбрал Бог, отнять у них безукоризненную плоть, а значит и искру, теплящуюся, затем временами вдруг разгорающуюся, словно миниатюрный Λóγος, в теле расы: вот отчего низшие, дорвавшись до власти, неизбежно обязывают высших к метисации с дегенератами!
Вы видите теперь сколь актуален мой с Гераклитом тайноводственный тандем! Сколь дороги лекарства, раздаваемые нами тем из людей, волящим достигнуть, вместе с Дионисом, сверхчеловеческой стадии! Ибо такие как мы пришли в мир уже вознесённые Богами на два уровня. Мы исполнены субстанцией, окрещённой иудее-христианами Духом Святым, этим мерцающим сквозь мрак хаотического миропорядка Λóγος'ом Аполлона. Одновременно, в разной степени, помним мы о роли Диониса, пока тот нам не повстречается лично, позволив почувствовать сладость качественного восхождения — если, конечно, Бог удостоит нас своей эпифании: без вакхического прикасания любые количественные усилия человека разумного бессмысленны. Гераклит, в отличие от меня, не познал вторую, вакхическую стадию, — слишком уж оказалась мощна аполлоническая отказчивость дорического артиста философии из Эфеса, самовольно ограничившего себя Фойбосом. Однако, Гераклит яснее ясного сознавал свою исключительность: аполлоново просвещение превратило сначала его предков, а затем и его самого в высших существ, вырвав брахманский род из запертого в кольцо коллектива деамбулирующих сомнамбул, глухих к пророчествам созерцательного гения (повторюсь, дабы самооценка Гераклита стала неоспоримой: «Ибо хотя все сталкиваются лицом к лицу с этим логосом, они выглядят незнакомыми с ним даже когда пытаются понять такие слова и дела, о каких толкую я, расчленяя их согласно природе и ясно выражая, каковы они.»), с самого раннего детства согретого отблесками мирового огня, иногда внезапно взрывающегося, – случайно перерождающегося в молнию. Свидетельство далеко не единичное в греческой литературе. Вспомним по этому случаю откровение другого аристократического пессимиста, Юлиана, с первых строк своего молитвенного дискурса К Царю Гелиосу признавшегося в отроческом боготворении Солнца ночью: речь идёт несомненно об упомянутых мною касательно Гераклита излучениях Λóγος'а, — «Первичного Митры», назовёт его цезарь-Отступник, подтвердивший затем взаимодополняющее соцарствие Ήλιος'Ἀπόλλων и Диониса. Но довольно сегодня о тьме.