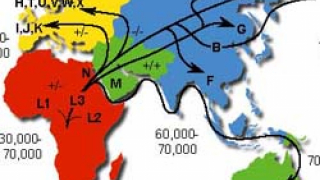Язык и политическая убогость
30.07.2013
Со времен греков и до наших дней известно всем, что у политического языка есть конечная цель — разубеждать и убеждать. В руках власти язык, прежде всего, призван убеждать своих избирателей, что она несет им самое лучшее и самое правильное.
Одновременно с этим язык наших политиков готов к компромиссу, но достаточно тонкому, чтобы не скомпрометировать себя окончательно. Мы вынуждены согласиться, что политический дискурс партократии наших дней выражается одним словосочетанием: не компрометирующий себя компромисс.
Сегодня в большинстве западных стран, где правят социал-демократические режимы, политический язык бесконечно крутится вокруг идеи прав человека, полностью забывая, что у этой идеи есть границы. Это бесконечные обещания и повторения, которые «обязывают нас быть счастливыми», для простого человека оборачиваются в итоге столкновением с ежедневной реальностью — несправедливой и отчуждающей.
В социал-демократической Европе простой человек все чаще сталкивается с безработицей, а в Южной Америке правительство не в состоянии обеспечить гражданам надлежащую безопасность, что выливается в криминальный беспредел (недавний всплеск убийств в Мексике, Бразилии, Аргентине, Венесуэле, Колумбии избавляет нас от необходимости делать какие-либо комментарии).
Политический язык прогрессизма несет ответственность за дефицит рабочих мест, наплыв иммигрантов в Европу и взрывоопасную ситуацию в Латинской Америке, поскольку эти проблемы и их разрешение укладываются в понятие «прав человека».
В действительности же бедные первыми остаются без заработка, а погибшие от рук уличных банд принадлежат не к местной буржуазии, а, опять же, к простому люду.
Смена терминологии
В наши дни мы говорим уже не о революции, а только о переменах. Народ прошел все фазы своего национального становления. В Аргентине военная диктатура пришла на смену процессам модернизации вооруженных сил в 1976-1983 годах. Права человека пришли на смену правам гражданина, известным с древних времен. Слова «компаньон» и «сторонник» заменяют собой понятия «воин» и «товарищ». Либерализация понимается всеми как синоним благополучия, а слово «бедный» равнозначно «отверженному». Слово «империализм» заменили словосочетанием «агенты влияния».
Наш язык лишен героического содержания, и институт дуэли вытеснен из нашего социума суицидальными явлениями. Становится ясно, что понятие чести исчезает из сферы политического. Порабощение мира «мягкими» идеологемами неизбежно приводит к трансформации политической речи, которая отныне призвана только ублажать слух, а не служить выражением чего-то существенного. Прогрессистский дискурс боится только одного — сходства с тем, что уже было до него, и поэтому всегда позиционирует себя как авангардное явление.
Язык и мышление
Много времени прошло с тех пор, как великий лингвист Александр Гумбольдт открыл механизм воздействия языковых норм на мыслительный акт человека, когда каждый язык формирует у людей, на нем разговаривающих, определенную схему мышления. Иными словами, языки моделируют наше сознание. Экстраординарный философ Макинтайр заявил, что «семантика — это первичная философия, поскольку язык и традиционные верования имеют непосредственную связь».
Поэтому стиль мышления тех, кто говорит на английском, отличается от стиля мышления испаноязычных, немецкоговорящие думают иначе, чем арабы, а китайцы отличаются в этом плане от гуарани.
На этот факт часто не обращают внимания. Мы же должны понимать, что наши интеллектуалы сталкиваются с языковой колонизацией, если пользуются иностранными языками, ведь их речь ничего не говорит нам о нашем политическом дискурсе, поскольку наши политики если и говорят по-испански, то с пристыженным взглядом.
Но появлению нашего колонизированного политического класса способствовал не язык, а деньги, которые им позволяют зарабатывать в индивидуальном порядке, когда они договариваются с иностранцами или местными лоббистскими структурами.
Концессии на разработку месторождений полезных ископаемых, издание своих произведений, доступ к государственной финансовой системе — вот великие агенты политической колонизации на региональном и международном уровнях.
Ну, а что же язык политики? Он выродился в усеченный вариант говорильни, где не разберешь, что истинно, а что ложно. Это особый вид компромисса, который боится себя скомпрометировать. Это множество невыполняемых и невыполнимых обещаний. Это обман интеллигенции из числа простого народа.
Кто из наших политиков из числа 22 государств-наций выступил хоть раз в защиту испанского языка как языка международного общения? В одном специализированном журнале я с удивлением прочел, что по распространенности «испанский — третий или четвертый язык в мире». Но ведь всем известно, что на английском говорят приблизительно 450 миллионов человек, в то время как на испанском — 550 миллионов! И это без учета (по словам бразильского социолога Хильберта Фрейре) того факта, что «испанец понимает, по крайней мере, четыре языка: испанский, португальский, каталанский и галисийский» (каталонцы и галисийцы — коренное население испанских провинций Каталонии и Галисии, численностью 11 млн. и 10 млн. человек соответственно). То есть, в сумме количество испаноговорящих достигает почти 800 миллионов человек. Разве эта огромная масса не сила? Почему же на международной арене мы наблюдаем абсолютное доминирование английского? Почему не выдвинуть идею, что испанский язык вполне может исполнять функции языка международного общения, особенно с учетом легкости его понимания и простой структуры построения (испанский считается самым легким из всех романо-германских языков)? К тому же, испанский не кишит идиомами, свойственными французскому.
Наши геополитики, как и геополитики французские, не понимают, что усиление позиций испанского языка в мире повлечет за собой усиление позиций языка французского, и всех других романских языков (португальского, итальянского, сардинского, окситанского, галисийского, каталонского, румынского).
Через угнетение языка — к самоугнетению
Испаноговорящие политики не позиционируют самих себя с выгодных позиций, не заботятся об испанской культуре и не оберегают наше культурное пространство. Уже давно мы отказываемся от самих себя, а наши политики предпочитают ограничиваться узкими рамками, и, словно в кривом зеркале, нашему взору предстает уродливое изображение их поступков. Роке Саенс Пена (президент Аргентины с 1910 по 1914 годы), прекрасно владея английским языком, на панамериканском конгрессе в Вашингтоне воспользовался услугами переводчиков, а затем заявил: «Я люблю свой народ, и ценю его славные победы в войне и благородные достижения в мирное время».
Язык — это инструмент силы. Сила языка зависит от силы тех, кто им пользуется. Но сегодня испаноговорящие политики силой не обладают. Они занимаются политикой на локальном уровне, но они ничего не значат на уровне международном.
В последнее время в Южной Америке учреждено Сообщество южноамериканских народов и Союз южноамериканских наций. Первое, что они сделали, это предложили Англии и Голландии (через Гайану и Суринам) проект интеграции на уровне правительственных комиссий. С вхождением в их лингвистическое поле они надеялись приобрести себе политическое влияние, но этого не произошло.
Это было очередное разочарование, может, самое горькое из всех, которые посещали наш уголок планеты.
На наших глазах бразильское правительство делает первые усилия в этом направлении. Бразильские государственные мужи свободно изъясняются по-испански, а испанский язык у них не считается иностранным ни в университетах, ни по всей стране. Это подтверждает мнение Хильберто Фрейре. Но остаются незаметными усилия со стороны политиков испаноязычных стран, которые преследовали бы те же цели. Мексика, столкнувшись с демографическим взрывом, озабочена больше переселением части своих граждан в Соединенные Штаты. Правительство Колумбии и центральноамериканских государств перешли в международных вопросах на английский язык, в то время как Аргентина и Чили с их дипломатическим корпусом все чаще склоняются к тому же варианту.