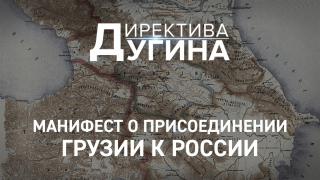Письмо Грузинским Регбистам
А́ще бо и пойду́ посреде́ се́ни сме́ртныя, не убою́ся зла, я́ко Ты со мно́ю еси́
Пс. 22
Паде́т от страны́ твоея́ ты́сяща, и тма одесну́ю тебе́, к тебе́ же не прибли́жится
Пс. 90
Слово сказанное перед Борджгалоснеби до из отправления на кубок мира в Новой Зеландии
Городок Иссуар, провиция Клермон Ферра, 10 Августа 2011-го года
Трудно говорить с воином до битвы. Если ты сам воин, ты обижен, что не можешь стоять рядом с братом. Еще и осторожничаешь, дабы не сказать ничего лишнего готовому к бою богатырю. В то же время, если сердцем хочешь помочь брату и, если действительно желаешь передать богатырю идущему на поле брани твой опыт, возможно ты даже обязан с ним побеседовать, как брат с братом, просто, без контрактур.
Братья, Господь нас родил сынами такой страны, которую всегда нужно спасать, и спасая которую мы сами спасаемся для вечной жизни. И никогда не видно оку, как спасеться наша родина и мы вместе с ней. И всегда кажется бессмыслицей любая битва за Сакартвело. Если мужчина только логическим взглядом посмотрит на любую наше битву и войну, он скажет, а какой смысл в этом?! И сколько таких примеров.
Когда объединенная коалиция арабских эмиров, тюркского султаната Султана Махмуда Паши и персидских воинов, с пятьсот шести десяти тысячной армией подошла к Грузии Давида Агмашенебели (Строителя) Багратиона, какой был смысл ее встречать святому царю, пусть даже с шестидесяти трех тысячным картвельским войском? Ведь в мировой летописи военной стратегии нет такого примера, такого несоответствия сил, такого безнадежного начала битвы.
И что делает в это время Давид? Он приказывает грузинскому войску собственноручно завалить отходной путь с Дидгорской долины, дабы воины сами подписались под неизбежным выбором между смертью и победой.
И как за шестьсот лет до Давида, великий Вахтанг Горгасали, готовый освободить родину в свои шестнадцать лет, говорил народу, что смерть лучше, чем такая жизнь, так и Давид ставит себя и рать перед этой горькой правдой.
И, небось, сколько сомневающихся и якобы мудрых советников говорили Давиду, мол что ты творишь, великий царь, как ты отрезаешь нам отходной путь, если битва проиграна, почему ты оставляешь на погибель стольких богатырей, пусть бегут, спасаются, пусть возвращаются в селения, берут в руки плуг, заботятся о семьях, сохраняют род и возрождают родину. И сколько наверно еще таких, вроде бы разумных мыслей говорили советники царю. Но Богом умудренный Давид, сам был правителем освященным высшим разумом, ибо его мышление было плодом не только его блистательного ума, но и результатом его горячего видящего сердца.
И невидимым глазом сердечного разума, Давид узрел, что, заставляя заваливать отходной путь, он сладко огорчал дух грузинского воина, при перетаскивании тяжелейших камней и бревен, он заставлял его вспоминать жену и детей, отца и мать, заставлял прослезиться от тоски, потеть при думах о битве и таким образом будил в теле и духе воина неведомые доселе для него самого потоки сил, страшные и разрушительные для врага и желанные для каждого из нас. Поэтому, рать, размявшаяся при заваливании отходного ущелья, не уставшая, а удивленная своей свежестью, повернулась ко замолкшему врагу, восхищенная невидимым ветром спокойствия в тишине проверила знакомые как пять пальцев доспехи, с любовью встала на колено перед господом и любимым царем и с благодарностью поклялась либо разбить уродливого врага, либо пасть лицом к нему.
Враг же, уверенный в своем численном превосходстве, потирающий с удовольствием руки в ожидании последующего изнасилования бесхозной страны, и не знал, что вставшее с колена войско картвелов уже не было шестидесяти тысячным, оно было шестьдесят раз шестидесяти тысячным и судьба Дидгорской битвы была уже предрешена.
Но разве только на волнительный восторг рассчитывал Давид? Что касается подготовки к битве, не осталось ни одной военной мелочи, стратегической, или тактической, ни одного самого незначительного вопроса, который бы Давид и его ратники не рассчитали.
Там было и неожиданное начало битвы, которое взорвали в сердце коалиции 200 личных телохранителей Давида, якобы предавших его и якобы перешедших на сторону эмира, зарубивших и его и все его командование со своим элитным объединением, еще до начала битвы.
Там было и бешенство, с которым, изрубив за счет огромной крови наших жертвенных героев до последнего, обезумевший враг бездумно ринулся за местью в узкое ущелье, где сразу пропало его численное превосходство.
Там в этом подъеме в этом узком ущелье и была нисходящая ураганная атака нашей конницы, подобно оползню похоронившей авангард коалиции, там было преимущество в движении наших коней, заведомо натренированных для рыхлой почвы Дидгори, и там было странное, слегка повернутое, боковое сидение наших всадников, делающее их неудобными мишенями для стрел и мечей врага, и там был провал главного трюка араб-сельджуков: гибель их резервной конницы отправленной за ночь до битвы в обход грузин, попавшей в искусственный камнепад и засаду наших горцев.
Все, о чем успевал подумать враг, было заранее предугадано и сделано войском Давида, и сказать по правде, если бы Амир Недж-Медин Иль Гази мог себе представить насколько более дотошной была подготовка Давида к бою, имей он разум, ему стоило бы бежать из Грузии еще до битвы.
А теперь было поздно. Не только для эмира, погибшего из-за ран, полученных в битве, но и для его огромного войска.
Растрескалось полумиллионное море бесов, зашатался уродливый Голиаф и стал падать, и весьма великим было его падение.
Земля дрожала от гула, жалко извивался падший дракон, завыло бескрайнее поле, рассыпалось как песок некогда непобедимое войско, побежало с воплями, но некуда было ему бежать.
Не со звериной жестокостью, но с заведомым пониманием горькой необходимости, гнев Давида обрушился и на головы бежавших. Это не было ни недостатком христианской милости, ни бешенным истреблением. Это было тяжелое нравственное решение, принятое холодным умом еще до битвы, продиктованное знанием того, что, если бы Давид отпустил живым огромное войско врага, оно бы обязательно вернулось, еще более озлобленное, еще более опытное, и засим еще более опасное для Родины. Этого допускать никак было нельзя, этим терялся смысл Дидгорской Битвы, и опасность для страны вырастала еще больше. Нет, вместе с остатками коалиционного войска должно было быть Давидом уничтожено, само желание помысла о еще одном нападении на Сакартвело.
Поэтому и судьба поверженного врага тоже была предрешена Давидом. Кто знает, чего стоила христианскому царю и сердцем львиному воину беспощадность к побежденному врагу, или может быть мы и знаем об этом, читая написанные им впоследствии გალობანი სინანულისანი «покаянные псалмопения», где он говорит:
„ჟამი რაი წულილთა და ხმელთა აღმოფშვინვათაი წარმოდგეს, ზარი მეფობისაი წარხდეს და დიდებაი დაშრტეს, შუებანი უქმ იქმნენ, ყუავილოვნებაი დაჭნეს, სხუამან მიიღოს სკიპტრაი, სხუასა შეუდგენ სპანი, მაშინ შემიწყალე, მსაჯულო ჩემო!“
«когда придет время частых и сухих всхрипываний, когда умолкнет колокол царства и поблекнет величие, когда радости канут, цветы завянут, другой примет скипетр, другому присягнут львы, помилуй меня тогда, о, мой Судья!»
Но сейчас было не до этого. На долинах и дорогах, в оврагах и ложбинах, в лесах и в зарослях, по всей Грузии, в темень и днем, ловили воины Давида как утят остатки коалиции и истребляли их, дабы пришельцы, изголодавшиеся и озлобленные на напали на оставшиеся из-за битвы бесхозными, наши селения, не насиловали и не похищали женщин и детей.
И здесь для нас познавательна не эмоция Давида, которой и не было, а его дотошное планирование и безукоризненное выполнение плана. Один из двенадцати европейских крестоносцев, воевавших на стороне Давида в Дидгори, потрясенный увиденным, позже напишет: «никто не знает какая участь постигла бы современную Европу, если бы не до одного миллиона воинов захватчиков исмаильтян, похороненных в святой иверской земле во время правления царя Давида Строителя.»
Рассказал я Вам про Давида и его подготовку потому, что мы регбисты, люди очень точного ремесла и образа жизни. И да, именно ремесла и образа жизни, ибо регби не просто спорт. Это правило, в котором растешь как мужчина, учишься уважать воина, сам получаешь возможность быть им, и имеешь право проливать свою кровь вместе с братьями для страны и ее флага. А разве есть для грузинского молодца больше счастья под солнцем чем проливать кровь за родину? Может поэтому, грузинским регбистам, самым малочисленным и неоснащенным в мире удается достигать самых невиданных в мире результатов по сравнению с их численностью и возможностью. Что это такое, если не доказательство той истины, что в случае равных возможностей, никто не может победить грузинского воина.
И пусть спорят историки о том, правда ли что британские моряки, в начале девятнадцатого века, когда британская империя, благодаря индустриализации и высвободившемуся труду, стала колыбелью современного спорта, взяли увиденные на причерноморских землях Колхов правила Лело и переделали их в правила современного регби, как в свое время Ясон украл Золотое Руно из Колхиды. Какая разница, мы ведь знаем, что только в картули имеется столь красивое метафорическое значение глагола გატანა «гатана», несение друг друга, являющееся синонимом мужества и командности, «гатана» друг друга пришло в картули из психологии лело. И только нашей традиции лело народная игра и в любом случае мы должны лишь благодарить британцев за создание и распространение по всему миру регби, ибо благодаря ему, нам дана возможность в самом органическом для нашего духа виде спорта жертвовать собой и проливать кровь за флаг нашей родины - хотя бы что-то в эту гнилую эпоху.
Но какой смысл в кровопролитии если воин до битвы не проливает и пот, и кровь во время подготовки, в чем смысл битвы неготовых? Воин сердечного разума на каждой тренировке отдается своему делу душой и телом, полностью жертвует собой, забывает о себе, и в этом самозабвении и рождается воином. Он не убегает от боли, он ее ищет дабы привыкнуть к ней. Усталости воин боится больше чем имени труса, и борется с признаками ее появления неустанно.
Во время подготовки, воин старается так овладеть своим телом и делом, чтобы во время битвы слышать не боль и усталость, а собственный разум, не позволять сбитому дыханию туманить око, а спокойно зреть поле битвы и видеть то чего не видит взволнованный противник.
Время союзник воина, жестокой и безустанной подготовкой, воин достигает того что его сердце и его запястье бьются медленнее, что значит, что для него время течет медленнее, и воин успевает в том же отрезке времени больше чем его противник, то есть он быстрее и выносливее противника. А что до времени самой битвы, воин о нем не печется, он всегда делает свое дело до конца и про себя думает будь что будет в конце.
Когда воин до боя слушает командующего, он ничего не упустит, ничего не забудет из сказанного старшим. Он согласовывает услышанное с собственной мыслью, и подчиняет ее сказанному ему. Он знает, что он часть строя, что «мы» больше чем «я», и что, если надо, он должен пасть, дабы знамя шло вперед.
Воин всегда готовится к битве, даже когда этого не заметно. Он скуп в еде, предпочитая легкость сытости. Он скуп в слове, его слово говориться на поле брани. Вне него он тих, шумливому не ответит, наглецу иной раз простит, от несамоуверенного отстранится. Гвино и супру любит грузинский воин, но пьянство и шум – нет. За его жестоким лицом кроется его теплое сердце, ибо имя его ремесла и правила жизни есть забота. Играя с ребенком воин сам им становиться, а верная жена ничего больше не любит чем быть с ним. Родитель гордиться воином, отец рад силе своего рода, мать переживает, но не хочет видеть сына побежденным.
Во сне воин летает в видениях прошлых битв, радуется исполненному долгу, грустит иногда о неисполненной задаче, грезит что куда-то не успел, о чем-то забыл, но грусть и сомнение не отнимут у воина сна, воину нужен тихий сон, хотя бы недолгий.
Больше всего воин ненавидит, когда падает его брат, когда его превосходят, когда его знамя попало к врагу. Во время вражеской атаки воин воет волком, жестоко врезается во врага там, где ему поручено поле битвы, дабы опрокинуть поток брани вспять и заставить врага бежать прочь.
Больше всего воин любит трудную битву. Во время нее, воин бьется за пределами свои сил, видит поле третьим глазом, без словно слышит брата, время измеряет внутри секунд, расстояние измеряет внутри миллиметров, пророчествует, видит до, есть до, скорости предпочитает ускорение, плохой атаке, хорошую защиту, бытию ведомым – бытие ведущим. Во время трудной битвы, воин становиться поэтом, действует сердцем и создает прекрасное.
Воин изрубленный в прекрасной битве, не чувствует более боли, тихо пребывает с исполненным долгом, омытый, живой или преображенный, присутствует в саду покоя, слышит необъяснимую радость пением соловья, за обожжёнными веками в нетронутом пространстве зрит нежность цветущих гранатов, в долинах, разлитых под родными горами.
Воин справивший прекрасную битву счастлив, живой он, или разбитый, ибо знает, что ничего не должен ни брату, ни Родине. И это ощущение легкости, исполненного долга, освобождает воина от любой тягостности, от любого плохого сна.
Воин справивший такую битву похож на тех своих предков, которые идя на войну вешали себе на спину ранец с ветвью виноградной лозы, ибо знали, что в случае гибели на поле брани, если братья не смогут их похоронить, тогда их тела срастутся с родной землей и из ее так оплодотворенных недр прорастет добрая лоза. А на изуродованном поле битвы, пауки, оставшиеся в живых лишь в силу их численности, а не их доблести, с жестоким наслаждением думали бы что оставляют поле брани лишь на милость сирот и вдов, спасшихся чудом от бессовестности пауков и их рабства, и что конечно эта горста прячущихся беженцев не осилила бы захоронение стольких воинов. И конечно так это и было.
Вот только пауки, уходящие якобы с победой, не догадывались, что за спиной оставляли не поле смерти, а прекрасный виноградник, который в третий год давал знак «нишани» ნიშანი, сиротам и вдовам, говоря им, мы здесь, мы никуда не уходили, мы возвращаемся. И еще через год виноградник давал урожай сиротам и вдовам.
Во время его сбора, уже окрепший мальчуган, вспоминая десницу отца, на которую смотрел снизу-вверх, начинал напевать, говоря взрастившей его матери с благодарностью:
„შენ ხარ ვენახი, ახლად აღყვავებული,
მორჩი კეთილი, ედემში დანერგული,
ალვა სულნელი, სამოთხით გამოსრული,
ღმერთმან შეგამკონ, ვერვინა გჯობს ქებული
და თავით თვისით მზე ხარ გაბრწყინვებული.“
«Ты еси Лоза виноградная, только зацветшая,
Ветвь нежная, в Эдеме растущая
(прекрасная молодая Ива в раю)
(храни Тебя Господь, прославления достойная)
и сама собой Ты — Солнце сияющее»
И лоза с добротой и благодарностью слушала пение своего едино кровного сына и дарила ему покой, с которым покоем она шла в бой с его отцом, у него на спине, ибо знала, что спину воина львиного сердцем не увидит ни враг, ни рана, и что в случае его гибели она бы вернется к земле не тронутой, дабы оживить доброту воина.
Если господь избрал мужчину воином, теперь он должен выбрать, каким воином он хочет быть. Беззаботным, неподготовленным, говорливым и излишне шутливым, и от этого слабым, ненадежным и боязливым, или собранным, твердым, одновременно хмурым и свободным, отважным и надежным, и одновременно же беспощадным и веселым? И как он хочет выйти на поле брани, подготовленным или не готовым, страшным, или страшащимся? И как он хочет выполнять свой воинский долг: без сердца и безрадостно, или с песней и радостью тронутой ветром? Поэтому, братья, до того, как мы выйдем на очередную битву, с якобы превосходящим нас врагом, давайте спросим себя, какими воинами мы хотим быть? И если мы картвельской крови, мы увидим, что биться без сердца и беспомощно оскорбительно для нас. И раз так, давайте вспомним наших воинов предков, которые делали гораздо более великие битвы для нас, ибо знали, что воин один раз живет на этом свете, одну имеет Родину, одно Достоинство, и одну Семью, которые он должен защитить, обрадовать и не посрамить, и Хвала Господу и за это!