Английский декаданс XIX века: прерафаэлиты и их окружение
Огромное влияние на группу художников, поэтов и интеллектуалов, получивших обобщающее название «прерафаэлиты»(поскольку они восхищались искусством Средневековья, готики и раннего Возрождения до Рафаэля) оказали Джон Рёскин и Уолтер Пейтер. Только после Рафаэля, как они полагали вслед за Рёскиным, искусство стало приобретать натуралистические и индивидуалистические черты, воплощающие собой переход к Модерну. Модерн же прерафаэлиты тотально отвергали, и в этой радикальной неприязни к современности, буржуазности и индустриальной эпохи легко увидеть то общее, что связывает всех деятелей английского декаданса. Это — декаданс вдвойне: во-первых, утверждается, что Модерн и есть эпоха упадка, то есть декаданс, и за ее оптимистическими масками скрывается дьявол, смерть и отчуждение, а во-вторых, вскрытие этого упадка и сравнение с прошлыми эпохами не способно подняться до уровня симметричного ответа или революции; художникам остается только горько сожалеть о существующем положении дел, язвительно отвергать обывателей и толпу, бежать и скрываться от мира в область грезы, фантазии, эстетической иллюзии, а подчас, и перверсий, алкоголя и психотропных веществ. Декаденты видели декаданс в современной им Англии, а сама эта Англия лицезрела декаданс в них самих. Так, рефлексия становилась двойной и обратной.
Джон Рёскин: «готический социализм» и Афина в сердце
Джон Рёскин (1819 — 1900),шотландский поэт и критик, выстроил свои концепции эстетики, в прямой противоположности доминирующему в его время утилитарно-индустриальному стилю — в архитектуре, моде, повседневной жизни, речи и т.д. С его точки зрения, образцом для подражания должен являться готический стиль раннего Ренессанса, а также эталоны Средневековья, считавшиеся Рёскиным высшим выражением европейской культуры, которой Англии, как европейской стране, и надо было следовать, не сворачивая в буржуазную либеральную бездну безвкусицы и технологического примитива.

Рёскин видел в Средневековье и в готике не только образцы для подражания, но и отражение гармоничного и подлинно духовного христианского общества, еще не испорченного натурализмом и эгоизмом последующих поколений мастеров Возрождения. Ранний Ренессанс в своих архитектурных строениях и произведениях живописи создавал, по Рёскину, высшие образцы эстетически-этического начала, доступные не только аристократическим классам, но и всему народу, включая крестьян и ремесленников, которые вступали в зону прекрасного и возвышенного, в частности, на церковных службах в готических соборах, построенных и украшенных гениальными и изысканными творцами. По Рёскину, самое страшное в Модерне состоит в разделении общества по материальному признаку, когда буржуазия получает доступ к искусству, образованию и возможности занятия умственным трудом (хотя и подстраивает все это под свои неглубокие критерии и материальные интересы), а широкие народные массы прозябают в нищете и невежестве в стихии однообразного чисто механического бесчеловечного труда. В такой ситуации верхи презирают низы, а низы завидуют верхам, при отсутствии общей эстетико-культурной и моральной инстанции, которая в эпоху готики воплощалась в христианстве и его высших художественных достижениях.
Рёскин был глубоким знатоком эллинской мифологии и с большим вниманием относился к ее структурам. В частности, в своем уникальном произведении «Прозерпина: исследование цветов, растущих вдоль дороги», Рёскин разбирает название цветов в их связи с персонажами греческой мифологии и этимологией их названий, а также анализирует эстетические параметры — лепестков, корней, стеблей, листьев, бутонов каждого растения, сопоставляя их с различными архитектурными фигурами и живописными приемами, включая цветовые гаммы и сочетания.
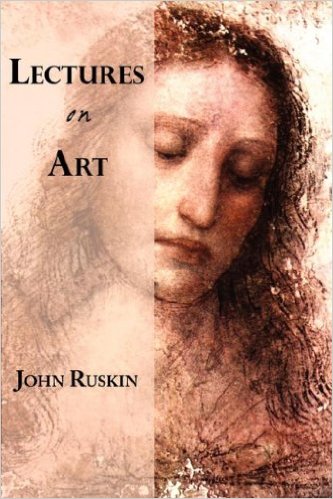
Мифологии фигуры Афины Паллады посвящена книга Джона Рёскина «Царица Воздухов», состоящая трех частей «Афина в небесах», «Афина на земле» и «Афина в сердце». Рёскин дает такую экспозицию образа Афины, которая проливает свое на понимание онтологии эллинских богов, если не в самой Древней Греции, то как минимум в Европе периода Возрождения, когда интерес к дохристианской традиции Запада, и в первую очередь, к Древней Греции вспыхнул с новой силой, хотя, строго говоря, он до конца не исчезал вообще никогда — с первых веков христианства до самого позднего Средневековья. То, как Джон Рёскин интерпретировал миф и его персонажей, показывает особый настрой романтизма и специфического европейского идеализма, в котором тесно переплелись христианская традиция, выступающая постоянной референтной базой для герменевтики и (имплицитных и эксплицитных) аллюзий, фрагменты античного политеизма и современные научные и философские знания относительно психологии, ботаники, физиологии, минералогии, атмосферных явлений и т.д. Во Вселенной Рёскина Афина представляет собой живой гештальт, фундаментальную фонему пластичной метафизики. Это одновременно:
• участница множества мифологических сюжетов, каждый из которых открывает ту или иную сторону ее аксиального смысла;
• серия семантически связанных природных явлений;
• имя для этических и эстетических комплексов;
• моральная добродетель;
• философский принцип;
• состояние души;
• покровительница профессий, ремесел и искусств;
• и наконец, тонкое пронзительно ощущаемое присутствие, которое за неимением какого-то иного слова было названо всеми теми, кто его хоть однажды переживал, «Афиной Палладой».
Афина — это фигура сознания, физического мира, особого вдохновения и своей собственной эпифании —
• в воздухе (который, по Рёскину, является ее органической стихией), где она воплощена в животворящем северном ветре;
• на земле, где она представляет собой жизненную силу бурно растущих организмов, и в первую очередь, цветов;
• и в сердце, в душе, где она организует тонкие структуры воли и воображения человека.
Греки, по Рёскину, были человечеством Афины, и их культура, лежащая в основе европейского Логоса, изначально складывалась вокруг ее эпифании, вокруг ее гештальта. Именно это «человечество Афины» Рёскин и предлагает взять за вечный образец того общества и той культуры, которую европейцы должны строить в будущем, вместо хтонического титанического кошмара, полностью утратившего всякое изящество и всякую духовную добродетель, в который Европа и, в первую очередь, Англия, превратились в XIX веке. Но настоящим ужасом, где человек теряет всякое сходство со своим архетипом, для Рёскина были американцы, в компании которых ему однажды случилось путешествовать по древним священным местам Сицилии, после чего, близко познакомившись с их низменными привычками и бессмысленными интересами, он их по-настоящему возненавидел.
Беспощадная критика капитализма и стремление изменить положение дел в обществе привели Рёскина на позиции христианского социализма, что выразилось в издании им в 1871–1884 годах специального журнала «Fors Clavigera», обращенного к трудящимся Англии и ставящего своей целью поднять их культурный и эстетический уровень. При этом, Рёскин на основании своих историко-эстетических воззрений сформулировал развернутую политэкономическую теорию, прямо противоположную либерализму. Причем его оппозиция либерализму затрагивала не только практические выводы, но и его метафизические основания, что делает значение Рёскина еще более принципиальным, ведь его критика капиталистического буржуазного англо-Модерна шла изнутри самого английского общества.
Рёскин отказывается с самого начала брать фигуру буржуа как универсальный норматив, тем самым, подрывая на корню классовую антропологию либерализма. Вместо этого он утверждает версию своего рода «готического социализма», где духовные идеалы средневекового рыцарства сочетаются с этикой общинного труда — на земле или в городских цеховых ремесленных объединениях, братствах. Союз аристократа духа с человеком труда лежит в основе альтернативной буржуазии социально-политической программы, сформулированной Рёскиным и разделяемой в целом прерафаэлитами и Уайльдом. Если в ранних работах Рёскин подверг детальному пересмотру главенствующие в Англии XIX века эстетические воззрения, в поздние периоды он осуществил радикальную ревизию либеральной политэкономии, разработав развернутую критику воззрений Иеремии Бентама, Джона Стюарта Милля, Адама Смита, Дэвида Рикардо и Томаса Мальтуса. Рёскин объединил свои тексты, посвященные политической экономии, в книге «Работники последнего часа» (из 4 эссе), где с опорой на евангельскую притчу о распределении результатов труда между теми, кто работал весь день, и теми, кто подоспел к концу рабочего дня, выстроил модель солидарного общества, чья хозяйственная деятельность основана на единстве, духе и уважении к природе, в полной противоположности нормативам хищнической эксплуатации людей и ресурсов, как главной стратегии классического капитализма. Джон Рёскин считается не только одним из первых создателей социальной политэкономии, но и предшественником экологических движений.
Рёскин прежде других в истории экономической мысли выступил жестко против принципа «разделения труда», как главной операции по отчуждению труженика от продуктов его работы. Отталкиваясь от идей Платона, Рёскин рассматривал домохозяйство и его экономическую деятельность не как поиск максимального обогащения, но как духовное общинное творчество, вдохновленное заботой всех обо всех и подчас требующее самопожертвования.
Показательно, что экономические тексты Рёскина были чрезвычайно популярны в Индии в период борьбы за независимость и стали основой социально-политических взглядов махатмы Ганди. Ганди опубликовал перевод «Работников последнего часа» на язык гуджарати, а его индийское название «Сарводайя», дословно, «Благо для всех», стало нарицательным понятием для определения высшей цели экономики индийского общества после его освобождения от британского владычества. Кроме того, взгляды Рёскина были взяты на вооружение английскими лейбористами, в частности, экономистом Дж. Э. Хобсоном, (1858 –-1940), в начале ХХ века, и в этой среде стали одной из главных концептуальных линий, предопределивших идейные ориентиры этой партии.
При этом социализм Рёскина оставался консервативным, а самого себя Рёскин причислял к традиционалистам и тори, выступая против эгалитаризма, но полагая, что иерархия в обществе не должна строиться на абсолютизации имущественного принципа, и уж тем более на успехе в материальных начинаниях.
Стремясь воплотить свои идеи на практике, Рёскин создал «Сельскую Гильдию св. Георгия» как подражание готическим организациям «компаньонов», которая занималась аграрным трудом, самообразованием на принципах солидарности и взаимопомощи. Эта гильдия как небольшая благотворительная организация существует в Англии вплоть до сего времени.
Уолтер Пейтер: моментальный субъект
Другим крупнейшим теоретиком и идеологом эстетизма наряду с Рёскиным был критик и эссеист Уолтер Пейтер (1839 — 1894). Если для Рёскина искусство было частью общего целостного движения человека к смыслу, включающего в себя и онтологию, и мораль, и политику, и социальную справедливость, то Пейтер, как и немецкий композитор и теоретик искусства Вагнер, выделял эстетику в самостоятельную и самодовлеющую сферу. Тем самым, то, что у Рёскина было интегральным мировоззрением, у Пейтера представляло собой автономную область эстетического, распространенного на все остальные сферы. Однако эта абсолютизация эстетического стала у Пейтера фундаментом особой метафизики. Начиная с внимательного погружения в сферу искусства, изучая полотна гениев раннего Возрождения — Да Винчи, Микеланджело и Боттичелли (ставшего знаменитым в Англии именно благодаря серии посвященных его картинам эссе Пейтера) — Пейтер пришел к философской теории «потока» (flux), которая и стала структурой его панэстетических взглядов.

Смысл искусства, по Пейтеру, состоит в том, чтобы материя была полностью подчинена форме, и тем самым, произведение искусства становилось бы чистой формой. Идеалом этого является музыка, где форма и содержание совпадают; остальные же искусства лишь стремятся приблизиться к абсолютности музыки. Музыка есть парадигма потока, но не простого и нечленораздельного, а темперированного, обработанного, проживаемого и осмысляемого, воплощающегося во вспышке эстетического восторга. По Пейтеру, вся природа состоит из вихрей, стремительного потока частиц, собирающегося в узлы и снова рассеивающегося. Мышление есть также поток, вихрь, причем еще более быстрый и стремительный, состоящий из мыслей, ощущений, чувств, эмоций, образов, символов и т.д. Вихри сознания сходятся, образуя фигуры и порождая вспышки прозрений или высокий накал эмоций, а затем рассеиваются снова. Раз так устроен мир, рассуждает Пейтер, то тщетно стремиться воплотить его потоки в нечто неизменное, постоянное и нормативное. Все равно всё рассеется и растворится — в телах и душах. Поэтому следует сосредоточиться на наиболее выразительных моментах, не тщясь увековечить или продлить их, но проживая их полноту в максимально интенсивном, хотя и конечном, даже кратковременном опыте. Человек не должен идти против природы вихря, он должен учиться выделять наиболее насыщенные красотой экзистенциальные фрагменты — выражения лица, жест, деталь пейзажа, гармоничные звуки — и максимально открыто и полно отдаваться их самореферентному обаянию. Пейтер выражал это в афористических максимах своей эстетической программы, представленной в «Заключении» к его ранней работе «Очерки по истории Ренессанса»:
"Не результат опыта, но сам опыт есть наша цель. Нам даны считанное число импульсов вариативной, драматической жизни. И как нам увидеть в них то, что мы должны были бы в них увидеть с помощью самых уточненных чувств? Как стремительно нам следует перемещаться их точки в точку, чтобы всегда оставаться в фокусе, где максимум жизненных сил объединяется в своей чистой энергии?
Всегда гореть этим твердым, похожим на гемму пламенем, поддерживая эту экстатику, — вот что такое жизненный успех.
Not the fruit of experience, but experience itself is the end. A counted number of pulses only is given to us of a variegated, dramatic life. How may we see in them all that is to be seen in them by the finest senses? How can we pass most swiftly from point to point, and be present always at the focus where the greatest number of vital forces unite in their purest energy?
To burn always with this hard, gem-like flame, to maintain this ecstasy, is success in life.

В этих пассажах, выражающих саму сущность эстетической философии Пейтера, причудливо сочетаются между собой платонизм с его онтологией прекрасного (объемно и исчерпывающе изложенной в диалоге «Пир») и специфический английский эмпиризм и сенсуализм, но только полностью лишенные своей утилитарной подоплеки. Это — романтизм, доведенный до своей предельной схематичности и освобожденный от сложных и подчас навязчивых сюжетов. Пейтер воспевает экстатический момент, позволяющий продлить жизнь как интервал между двумя бесконечными периодами несуществования — до пробуждения в человеке духа и сознания и после его физической смерти или полного увядания. Жизнь и так коротка: чем больше мы будем проживать наличествующих в ней эстетических (экстатических) моментов, тем она будет полнее и совершеннее — дольше, выше и глубже. Но это и есть, по Пейтеру, цель: жить интенсивно, полноценно проживать яркие вспышки чувств, тонкие переливы образов, изящные жесты, субтильные тона искусства, насыщенные гаммой переживаний пейзажи, вызывающие экстатический восторг сознания философские системы. Даже религиозный опыт для Пейтера становится ценным и важным, когда обращает нас в вихрь высокого напряжения душевных сил — неважно, в ужасе или блаженстве, в страдании или наслаждении. Жизнь прекрасна, но лишь в том смысле, что все то, что не прекрасно, не есть жизнь. Отсюда полное подчинение эстетике и морального и рационального принципов. Хорошо то, что прекрасно. И даже истинно то, что прекрасно.

А если это так, то искусство, которое занимается и интересуется только красотой, становится наиболее полноценной формой жизни, наиболее жизненной ее формой.
Завершает свой программный текст, ставший квинтэссенцией воззрений прерафаэлитов, а позднее Оскара, Уайльда, Обри Бердсли и т.д., Пейтер следующими чеканными фразами:
"Отлично! Мы все обречены, как говорит Виктор Гюго: «люди все есть приговоренные к смерти с отсроченным приведением приговора в исполнение». Все что у нас есть — интервал, а потом наше место больше нас не узнает. Кто-то проводит этот интервал в вялости, другие — в высоких страстях, но мудрейшие — в искусстве и пении. Наш единственный шанс растянуть этот интервал, получив как можно больше биений пульса как это только возможно в ограниченное время. Высокие страсти немедленно сообщают человеку смысл жизни, экстаз или терпкую горечь любви, политический или религиозный энтузиазм, равно как и «одержимость гуманностью». Только убедитесь прежде всего, что это именно страсть, что дает вам этот плод ускоренной, умноженной осознанности. Больше всего мудрости, поэтической страсти, жажды красоты содержится в любви к искусству ради искусства; так как только искусство идет к тебе, честно провозглашая, что не даст тебе ничего, кроме высшего качества преходящих мгновений и лишь ради самих этих мгновений».
"Well, we are all condamnés, as Victor Hugo says : «les hommes sont tous condamnés à morte avec des sursis indifinis». We have an interval, and then our place knows us no more. Some spend this interval in listlessness, some in high passions, the wisest in art and song. For our one chance is in expanding that interval, in getting as many pulsations as possible into the given time. High passions give one this quickened sense of life, ecstasy and sorrow of love, political or religious enthusiasm, or the enthusiasm of humanity. Only, be sure it is passion, that it does yield you this fruit of a quickened, multiplied consciousness. Of this wisdom, the poetic passion, the desire of beauty, the love of art for art's sake has most ; for art comes to you professing frankly to give nothing but the highest quality to your moments as they pass, and simply for those moments' sake".

Эстетическая метафизика Пейтера может показаться на первый взгляд «субъективной», поскольку сам он постоянно подчеркивает, что прежде, чем познать вещь, необходимо сформировать впечатление о ней, а оно с необходимостью окрашено всем потоком жизненных вихрей и не может быть «нейтральным», тем более, если мы познаем вещи, которые не нейтральны (то есть не безразличны!) нам. Но субъективность рассеивается, если мы признаем онтологию красоты, проблематику вертикального вечного измерения мгновения и ту трактовку аффектов, которую дает Шеллинг и позднее развивает Хайдеггер, отталкиваясь от Шеллинга. Шеллинг обращал внимание на то, что часто считается, будто смертные и подверженные страстям люди наделяют в мифах и религиях этими же свойствами (страстями) богов. Но Шеллинг предлагает посмотреть на эту проблему иначе: а вдруг, напротив, боги наделяют отблесками своих божественных страстей людей, и через эти отблески люди только и способны, пусть на почтительном расстоянии, но все же приблизиться к экзистенции легких богов… И конечно, сразу же приходит на ум «страдающий бог» — Дионис, чья божественность не исключает страсти и смерти, преходящести и трагизма, но включает в себя все это, обожая земные стихии своим присутствием. Эстетизм Пейтера вполне можно истолковать и таким дионисийским образом. В этом случае «субъект» станет столь же потоковым понятием как и сама жизнь: не нечто индивидуально константное и раз и навсегда положенное между двумя моментами небытия, ограничивающими субъекта в прошлом и будущем, но вихревое, игровое, страстное, постоянно изменяющееся исступленное сосредоточение жизни, ее момент. Такой субъект — при всей своей эфемерности и моментальности — становится безусловным и устойчивым, даже в чем-то универсальным, так как объединяет отдельные разрозненные атомарные существа общей стихией огненной жизни.
Прерафаэлиты: лицо Бога смерти
Основу «Братства прерафаэлитов» составили поэт и живописец Данте Габриэль Россетти (1828 — 1882), художники Уильям Холман Хант (1827 — 1910) и Джон Эверетт Милле (1829 — 1896).
Данте Габриэль Россетти начал с переводов «Новой жизни» Данте на английский язык. Цикл Данте и «Смерть короля Артура» Томаса Мэлори стали главными эстетико-философскими ориентирами его творчества. Многие полотна и акварели Россетти представляли собой иллюстрации к мифам и средневековым сюжетам, и даже библейские мотивы он старался стилизовать под средневековые иллюстрации, добиваясь цветового сходства и воспроизводя стиль. Вместе с тем, Данте Габриэль Россетти использовал новаторские художественные техники, вплоть до появившейся в конце XIX века в Англии фотографии.
Основная идеология Россетти и прерафаэлитов в целом строилась на преемственности глубинной англо-британской идентичности, мифологические и религиозные основы которой стали в центре их творчества. Вместе с тем, они ориентировались на Шекспира, романтиков — особенно, Кольриджа и Китса, первыми признали значение Блейка, а теоретические основы их течения сформулировали Рёскин и Пейтер, сразу же поддержавшие это направление своими публикациями и эссе.
Работы Уильяма Холмана Ханта, друга Данте Габриэля Россетти, выдержанные в общей для прерафаэлитов манере с повышенным вниманиям к деталям, освещению, особой цветовой гаммой и манерой письма, часто более чем у других художников этого течения были обращены к христианских мотивам. Картина Ханта «Свет Миру», изображающая Христа, стоящего у двери человеческой души в ночи в лунном нимбе, современниками Ханта была воспринята как активная радикальная пропаганда католичества и призыв к реставрации средневекового мистического духа. Вместе с тем, это же полотно, живописующее Христа в совершенно неожиданной и нетипичной манере, с проникновенным и благоговейным, но новаторским стилем, считается одним из самых ранних образцов художественного авангарда, предвосхищающего эстетику европейских символистов.

Чтобы понять другие стороны прерафаэлитов, — их депрессивность, склонность к психоделикам, бурные и трагичные отношения с женщинами, иногда выходящие далеко за рамки общепринятой в английском обществе викторианской эпохи морали, их подверженность галлюцинациям (особенно в случае Данте Габриэля Россетти) и экстравагантные поступки (так, Россетти произвел эксгумацию своей жены и модели Элизабет Сиддал через год после похорон, чтобы извлечь из гроба брошенные туда на похоронах стихи, кроме того, он завел впервые в истории Англии домашнего вамбата, затем ламу и тукана и т.д.), — следует обратить внимание на полную противоположность их ориентиров, идеалов и ценностей тем, что царили в то время в Англии.
Доминирующей линией был утилитаризм, капитализм, торговля, промышленность, техническое и научное развитие, культ Модерна и индивидуализма. При этом именно эти тенденции преобладали в обществе как нечто само собой разумеющееся, и на этом фоне прерафаэлиты выглядели предельной экзотикой, лунатическим видением, обратной галлюцинацией. Многие ценители творчества Россетти и Ханта, скупавшие их картины, признавались, что испытывают к ним отвращение, но в этом и состояла их притягательность. Англо-Модерн видел в декадентах свою антитезу, но в силу демократической ориентации предпочитал не просто уничтожать или запрещать ее, но интегрировать ее на правах безобидного в целом эксцентричного жеста в поле культуры.
Этот гротескный фон, сопровождавший прерафаэлитов, не делал, однако, их движение менее серьезным и трагичным. Отсюда традиционная для романтиков тема «сознания во зле», пробуждения во сне, восстание посреди смерти.
Центральность фигуры «Бога смерти» в творчестве прерафаэлитов эксплицитно описана у Данте Габриеля Россетти в его сонетах из цикла «Дом Жизни».
Дом Жизни: 66. Сердце Ночи
От ребенка до юноши, от юноши до твердого мужчины;
От летаргии до сердечной лихорадки;
От верной жизни до разрозненных дней, остаточно наделенных снами;
От уверенности к сомнению; от сомнения к краю проклятия;
Так много изменений пробегает в одном стремительном цикле
Вплоть до настоящего момента. Увы, душа! — как скоро ей придется принять ее изначальное бессмертие, — возьмет ли плоть свой прах опять, откуда она и возникла?
Бог труда и мира! Бог жизни!
О Бог, ужасный! Бог воли! Пусть поздно, но
Все же обнови эту душу должным дыханием:
Так чтобы когда мир надежно сбережен от бойни,
Труд восстановлен, воля возрождена,
Душа смогла бы увидеть твое лицо, О Бог смерти!
The House of Life: 66. The Heart of the Night

From child to youth; from youth to arduous man;
From lethargy to fever of the heart;
From faithful life to dream-dower'd days apart;
From trust to doubt; from doubt to brink of ban;--
Thus much of change in one swift cycle ran
Till now. Alas, the soul!--how soon must she
Accept her primal immortality,--
The flesh resume its dust whence it began?
Lord of work and peace! O Lord of life!
O Lord, the awful Lord of will! though late,
Even yet renew this soul with duteous breath:
That when the peace is garner'd in from strife,
The work retriev'd, the will regenerate,
This soul may see thy face, O Lord of death!246
В сердце ночи поэт обращается к Богу смерти, чьи лицо бесстрашно стремится разглядеть. В этом кульминация эстетики Пейтера, призывающего проживать с максимальной насыщенной интенсивностью не столько моменты жизни, но жизнь как момент, в который включена вся она целиком. Таким моментом может быть только момент смерти, как кульминации жизни. Сам Данте Габриэль Россетти называл это «моментом моментов» и посвящал циклы своих сонетов именно ему. «Дом Жизни», таким образом, это цепь ярких вспышек пронзительного переживания экзистенции, кульминацией которой является Дом Смерти. И не случайно Россетти посвящает этот цикл умершей (от смертельной дозы лауданума) жене.
Из книги Александра Дугина "Ноомахия: Англия или Британия?"


